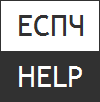Статьи
Дело о китайском серебре: топ-менеджер Haier в Челнах погорел на контрабанде
В соответствии с действующим законодательством в случае выявления факта незаконного перемещения товаров через таможенную границу оплата доначисленных таможенных платежей может быть произведена как собственником товаров в добровольном порядке, так и принудительно по решению таможенного органа. В рамках уголовного преследования по факту совершенного преступления, в качестве обвиняемых от организации будут привлекаться руководитель и иные участники организованной группы. При этом, в случае если доначисленные платежи не будут выплачены организацией, сумма причиненного государству ущерба будет взыскана с подсудимых. В случае добровольного возмещения компанией Haier 24 297 671,24 руб. ущерба указанное обстоятельство позволит уменьшить наказание директора завода Ван Шоужуна и иных фигурантов данного уголовного дела.
策略作为策略
战略是指管理活动,因为它决定了一个组织/国家/个人向战略目标的移动。 战略分析决定了长期的主要参与者和游戏规则。 战略情报不仅从其侧面,而且从敌人/对手的侧面定义了相同的优先领域。 因此,战略分析定义了战略目标和实现这些目标的手段。 但是,如果有一个重要的组成部分--即特派团,就可以做到这一点。 一个组织/国家/个人为自己设定的某个元目标。 由于对这种情况的研究,管理空间是结构化的,我们得到了一个清晰易懂的运动版本。
Strategy as a tactic
Strategy refers to management activities, as it determines the movement of an organization/ country/ person towards a strategic goal. Strategic analysis determines the main players and the rules of the game in the long term. Strategic intelligence defines the same area of priorities not only from its side, but also from the side of the enemy/opponent. Thus, strategic analysis defines strategic goals and means to achieve them. However, this can be done if there is one important component - the mission, i.e. a certain meta-goal that an organization/country/person sets for themselves. As a result of such a study of the situation, the management space is structured, we get a clear and understandable version of our movement.
Стратегия как нетактика
Стратегия относится к управленческой деятельности, поскольку определяет движение организации / страны / человека к стратегической цели. Стратегический анализ определяет основных игроков и правила игры в долгосрочной перспективе. Стратегическая разведка определяет ту же сферу приоритетов не только со своей стороны, но и со стороны противника / оппонента. Таким образом, стратегический анализ определяет стратегические цели и средства для их достижения. Однако сделать это можно при наличии одного важного компонента - миссии, т.е. определенной метацели, которую ставит перед собой организация / страна / человек. В результате такой проработки ситуации управленческое пространство структурируется, мы получаем четкий и понятный вариант своего движения.
中华人民共和国小企业增值税法律规定的特点
本文对我国小企业增值税立法的现状进行了分析。 突出了为刺激小企业而制定的增值税法律结构形成的特点。 值得注意的是,在经济增长下降和新病毒性肺炎蔓延的背景下,立法者和中华人民共和国税务机关为这一类纳税人在增值税的法律机制中提供了广泛
Features of the legal regulation of value added taxation in the field of small business of the People's Republic of China
The article offers an analysis of the current state of the legislation on value added taxation in relation to small businesses in China. The peculiarities of the formation of legal structures of VAT, developed in order to stimulate small enterprises, are highlighted. It is noted that in the context of declining economic growth and the spread of new viral pneumonia, the legislator and the tax authorities of the People's Republic of China provide a wide range of additional benefits in the legal mechanism of VAT for this category of taxpayers.
Особенности правового регулирования налогообложения добавленной стоимости в сфере малого предпринимательства Китайской Народной Республики
В статье предложен анализ современного состояния законодательства о налогообложении добавленной стоимости в отношении субъектов малого предпринимательства в КНР. Выделены особенности формирования правовых структур НДС, разрабатываемых в целях стимулирования малых предприятий. Отмечается, что в условиях снижения темпов экономического роста и распространения новой вирусной пневмонии законодатель и налоговые органы КНР предусматривают широкий круг дополнительных льгот в правовом механизме НДС для данной категории налогоплательщиков.
战略的主要表现形式
要了解信息战略的选择,我们需要了解总体战略的概念。 战略眼光是一门特殊的艺术。 一方面,这使得在战略制定过程中包括有限数量的专家成为可能,因为该战略的特点是跨学科性和系统性,这将其定义为一种特殊类型的分析。
The main manifestations of strategies
To understand the options for information strategies, we need to understand the concept of strategy in general. Strategic vision is a special art. On the one hand, this makes it possible to include a limited number of experts in the strategizing processes, since the strategy is characterized by both interdisciplinarity and systemic nature, which defines it as a special type of analytics.
Основные проявления стратегий
Для понимания вариантов информационных стратегий нам следует разобраться с понятием стратегии вообще. Стратегическое видение является особым искусством. С одной стороны, это позволяет включать в процессы стратегирования ограниченный круг экспертов, поскольку стратегия характеризуется как междисциплинарность, так и системным характером, что определяет ее как особый вид аналитики.
中华人民共和国地方政府机构的组建与发展
这项研究的相关性主要是由于这样一个事实,即中国地方政府发展的大部分方面,尽管存在一些错误和中国的具体情况,并没有停止对许多国家,主要是后苏联时期的国家感兴趣。 在这方面,作者试图分析中国地方政府机构的形成和运作。 在研究过程中,作者确定了中国地方自治是在20世纪50年代初开始作为一个机构建立起来的。 尽管中国农业区的社区传统在西汉统治时期开始形成,但它最终形成于2000年代。 中国地方政府的各个方面引起国内汉学家关注的最重要原因是中国在全球政治和经济进程中的全球作用每年都在增加。 从这个角度来看,相当明显的是,中华人民共和国地方政府制度是独特而有效的,中华人民共和国在地方政府制度运作的形成和组织方面的经验可以由俄
Formation and development of local government bodies of the People's Republic of China
The relevance of the study is primarily due to the fact that most of the aspects of the development of local government in China, despite a number of errors and Chinese specifics, do not cease to be of interest to many countries, and primarily the states of the post-Soviet space. In this regard, the author has attempted to analyze the formation and functioning of local government bodies in China. In the course of the research, the author established that local self-government in the PRC began to be built up as an institution in the early 1950s. and it was finally formed in the 2000s, despite the fact that communal traditions in the agricultural regions of China began to take shape during the time of the ruling Western Han dynasty. The most important reason why various aspects of Chinese local government attract the attention of domestic Sinologists is the annually increasing global role of the PRC in global political and economic processes. In this aggregate, it is quite obvious that the system of local government of the People's Republic of China is unique and effective, and the experience of the People's Republic of China in the formation and organization of the functioning of the local government system can be used by the Russian Federation in the process of optimizing local government.
Становление и развитие местных органов государственного управления Китайской Народной Республики
Актуальность проведенного исследования в первую очередь обусловлена тем, что большинство из аспектов развития местных органов государственного управления в Китае, невзирая на ряд имевшихся ошибок и китайскую специфику, не перестает представлять интерес для многих стран, и в первую очередь государств постсоветского пространства. В этой связи автор предпринял попытку анализа становления и функционирования местных органов государственного управления Китая. В процессе исследования автором установлено, что как институт местное самоуправление в КНР начало выстраиваться в начале 1950-х гг. и окончательно сформировалось в 2000-х гг., несмотря на то что общинные традиции в сельскохозяйственных районах Китая начинали складываться еще во времена правящей династии Западная Хань. Важнейшей причиной, по которой различные аспекты китайского местного самоуправления притягивают внимание отечественных китаеведов, является ежегодно возрастающая мировая роль КНР в глобальных политических и экономических процессах. В обозначенной совокупности совершенно очевидно, что система местных органов государственного управления КНР является уникальной и эффективной, а опыт КНР по становлению и организации функционирования системы местного самоуправления может использоваться Российской Федерацией в процессе оптимизации органов местного самоуправления.
生活各个领域的信息策略
信息策略的运作基于一个单一的原则:它们旨在创建一个适当的虚拟世界,它允许您在下一步对现实进行更改,基于它。 也就是说,在我们面前出现了信息现实的变化,随之而来的是虚拟现实的变化,以便因此改变真实(物理)现实。
Information strategies in various spheres of life
Information strategies operate on a single principle: they are aimed at creating an appropriate virtual world, which allows you to make changes to reality at the next step, based on it. That is, there is a change in information reality in front of us, along which there is a change in virtual reality, in order to change the real (physical) reality as a result.
Информационные стратегии в различных сферах жизнедеятельности
Информационные стратегии действуют по единому принципу: они направлены на создание соответствующего виртуального мира, который позволяет на следующем шаге, опираясь на него, вносить изменения в реальность. То есть перед нами происходит смена информационной реальности, по которой идет смена виртуальной реальности, для того, чтобы в результате изменить настоящую (физическую) реальность.
中华人民共和国法律规定的创业领域合同义务:执行、终止、违约责任
本文主要分析了在中华人民共和国从事创业活动的人之间产生的合同义务的法律规定。 作者旨在调查《中华人民共和国法律》规定的创业领域合同义务的适当履行情况,考虑为其不履行或不当履行而制定的责任措施,并分析终止义务的理由。 根据研究结果,作者得出结论,诚实和信任原则对于创业活动领域的合同义务至关重要。 双方有义务充分合作,包括除履行合同规定的义务外。 此外,即使在所有合同义务终止后,这种义务仍然存在。 还确定了违反企业活动领域义务的责任条件。
Contractual obligations in the field of entrepreneurship under the law of the People's Republic of China: execution, termination, liability for violation
The article is devoted to the analysis of the legal regulation of contractual obligations arising between persons engaged in entrepreneurial activity in the People's Republic of China. The author aims to investigate the proper fulfillment of contractual obligations in the field of entrepreneurship under the law of the People's Republic of China, to consider the liability measures established for their non-fulfillment or improper fulfillment, as well as to analyze the grounds for termination of obligations. Based on the results of the study, the author concludes that the principles of honesty and trust are essential for contractual obligations in the field of entrepreneurial activity. The parties are obliged to cooperate fully, including in addition to fulfilling the obligations stipulated in the contract. Moreover, such an obligation remains even after the termination of all contractual obligations. The conditions for liability for violation of obligations in the field of entrepreneurial activity are also established.
Договорные обязательства в сфере предпринимательства по праву КНР: исполнение, прекращение, ответственность за нарушение
Статья посвящена анализу правового регулирования договорных обязательств, возникающих между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в КНР. Автор ставит своей целью исследовать надлежащее исполнение договорных обязательств в сфере предпринимательства по праву КНР, рассмотреть меры ответственности, установленные за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а также проанализировать основания прекращения обязательств. По результатам исследования автор приходит к выводу, что для договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности существенное значение имеют принципы честности и доверия. Стороны обязаны всесторонне сотрудничать, в том числе и помимо исполнения оговоренных в договоре обязательств. Более того, такая обязанность сохраняется и после прекращения всех договорных обязательств. Также установлены условия наступления ответственности за нарушение обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
用信息思考
正如地缘政治在空间中思考一样,信息政策也应该成为在信息中思考。 有更强大和不那么强大的"机器"来产生信息,除其他外,它们与一些国家联系在一起,这使我们能够更充分地为未来的行动做好准备,因为以下内容已成为当前的一项重要规则:没有适当的信息准备,任何行动都没有意义。 自伊拉克战争准备以来,自乌克兰展开的对抗开始以来,我们已经看到了这一点。